| ← Март 2015 → | ||||||
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
||||||
|
9
|
||||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://https://fergana.site
Открыта:
21-03-2000
Статистика
0 за неделю
Русские Шымкента: о городе и о себе
|
Русские Шымкента: о городе и о себе 2015-03-13 08:22 ferghana@ferghana.ru (Игорь Савин) Осенью 2012 года научный центр «История и этнология» Южно-Казахстанского государственного университета имени М.Ауэзова по инициативе Института истории имени Ш.Марджани АН Республики Татарстан провел социологический опрос среди русского населения города Шымкента (Чимкента). Поскольку опрос в нашем городе был частью большого проекта татарстанских коллег Л.Сагитовой и З.Махмудова по изучению современного самосознания русских в разных странах, то их внимание к мнению именно русских жителей Казахстана не вызывало удивления. Тем более что несколько позже по сходной методологии в тех же регионах был проведен опрос татарского населения. В Казахстане, кроме Чимкента, опрос проводился в Астане и Петропавловске, а в России - в Татарстане и других регионах. Объем выборки по Чимкенту был сравнительно небольшим - 130 человек, что примерно соответствует 0,1 процента русских жителей города (91.000) по данным на 2011 год. Выборка была квотная по полу и возрасту. Она учитывала повышенное количество пожилых людей, особенно женщин, среди русского населения по сравнению, например, с казахами и узбеками. Результаты исследования были получены нами только в конце 2014 года, что связано с разного рода техническими и организационными обстоятельствами. Пока идет анализ материала для большой научной публикации, охватывающей все регионы, где проходило исследование, мы решили подготовить небольшую статью, обращенную к читающей публике нашего региона, тем более, что ситуация меняется каждый день и актуальность полученных данных все время ослабевает. Но неформальные дискуссии с заинтересованными лицами по поводу публикации в прессе Шымкента и Южно-Казахстанской области еще продолжаются. Думаем, этот материал может быть интересен для понимания умонастроений второй по численности группы населения города, даже учитывая все ограничения объективности и достоверности, накладываемые массовыми опросами с использованием анкеты с преимущественно закрытыми вопросами. В ряде случаев об этих ограничениях будет сказано отдельно. Прежде всего, нужно сказать, что лишь 20 процентов опрошенных не были уроженцами города Шымкента, они приехали в тогда еще Чимкент, в основном, в 1950-1970 годы. Так что перед нами мнения людей, которые считают этот город и страну «своими». Не случайно, что лишь 28 процентов из них сообщили, что собираются сменить место жительства, 48 процентов отметили, что никуда уезжать не собираются, свыше пятой части всех опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос. Много это или мало, если около трети русских жителей города говорят, что собираются его покинуть? Ответ на этот вопрос не так однозначен и мы отложим его, чтобы познакомиться с другими материалами опроса. На вопрос «Хотелось бы Вам сменить место жительства?» положительно ответили 57 процентов респондентов, отрицательно – 28 процентов при опять-таки значительной доле затруднившихся ответить. Казалось бы, уж теперь без апокалиптических выводов не обойтись: две трети жителей говорят о своем желании уехать из города, что свидетельствует о катастрофической ситуации с их самоощущением. Автор же, имеющий более чем двадцатилетний опыт проведения подобных опросов, прежде всего, в Казахстане и в России, весьма далек от такой позиции. Для этого есть два основания. Во-первых, реальное миграционное поведение русских из Казахстана не подтверждает их манифесты по этому поводу. На протяжении многих последних лет из всех областей Казахстана выезжает, прежде всего, в Россию, примерно постоянное число вчерашних русских казахстанцев: порядка 20 тысяч человек в год. А это менее двух процентов населения страны, а отнюдь не треть и не две трети. Так что, в данном случае, мы имеем дело с так называемыми проективными ответами. То есть, ответами, в которые респондент вкладывает, скорее, свое отношение к ситуации вокруг себя, а не реальные намерения или стратегии поведения. Почему так происходит? Да потому что, во-вторых, в ситуации, когда человек вынужден отвечать на придуманный не им вопрос, вытекающий не из его повседневных чаяний, а из просьбы внешнего исследователя, он начинает «видеть» и «чувствовать» вокруг себя то, чего раньше обычно не видел и чувствовал. Он пытается посмотреть на ситуацию «со стороны». Ему приходится искать вокруг себя аргументы для того или иного варианта ответа. Поэтому малейшее основание для дискомфорта из окружающей жизни становится главным фактором ответа «Да, хотел бы уехать». Этот феномен известен любому социологу или, шире, социальному исследователю, которые обычно избегают делать далеко идущие выводы лишь на основании таких ответов, пытаясь нащупать условия формирования последних методами социальной антропологии или качественной социологии. Пойдем по этому пути и мы. Тем более что следующие вопросы дают возможность для некоторого уточнения ситуации. Во-первых, большинство (59 процентов) из тех, кто высказался о своем желании уехать из Казахстана, заявили, что хотели бы переехать в Россию, 20 процентов - в другие страны, а 7 процентов - в другие регионы Казахстана. Это означает, что люди уезжают не по принципу «лишь бы уехать» или «лишь бы в Россию», а имеют свои предпочтения, основанные на собственных представлениях, которые не просто объяснить однозначно. Больше информации по этому поводу дает ответ на вопрос «Почему Вы хотели бы уехать из Казахстана?». 52 процента всех опрошенных в Шымкенте назвали в качестве причины возможного отъезда «языковую и национальную политику РК» (Республики Казахстан), еще 24 процента - «ухудшение межэтнических отношений», тогда как «неустойчивое экономическое положение», «невозможность решить жилищную проблему» и «невозможность продолжить образование» указали 13, 7 и 7 процентов соответственно. Напомним, опрос проводился осенью 2012 года, а в тот период не было никаких заметных поводов говорить о резком ухудшении межнациональных отношений. Остается предположить, что на ответы на этот вопрос повлияло общее развитие ситуации, и попытаться уточнить, что же имеют в виду респонденты под не устраивающей их «языковой и национальной политикой» и «ухудшением межэтнических отношений» в момент, когда выбирают эти варианты ответов. Материалы опроса дают такую возможность. Во-первых, легко выясняется, что на это не повлияла реализуемая Россией программа «возвращения соотечественников». Положительные стороны этой программы отметили лишь 8 процентов опрошенных, тогда как 25 процентов полагают, что никаких условий создано не было, а 22 процента сочли предложенные условия явно недостаточными. Во-вторых, можно посмотреть, какова ситуация в языковой сфере, которая так сильно влияет на желание русских жителей Шымкента переехать. Прежде всего, менее 5 процентов опрошенных отметили, что обучались на русском и казахском языках. Все остальные обучались только на русском языке, а казахский язык был лишь одним из учебных предметов. Это и сказалось на уровне знания казахского языка. Лишь 2 процента отметили, что «свободно говорят, читают и пишут» на казахском языке, 19 процентов считают, что «понимают и могут объясняться», 47 процентов «частично понимают, но не могут объясняться», 33 процента «практически не владеют». Эти цифры вряд ли могут удивить. Они вполне привычны в ряду подобных публикаций. Интересно отметить, что дискомфорт от недостаточного знания казахского языка приходилось испытывать 82 процентам респондентов (51 проценту - иногда, а 31 проценту - часто), и лишь 18 процентам никогда не приходилось. Это означает, что среда использования казахского языка, повышающая его востребованность в практической жизни, на юге Казахстана создана. Не менее важно понять, почему эта среда становится не стимулом изучения казахского языка, а источником дискомфорта для не являющихся его носителем жителей. Отвечая на вопрос о языковых предпочтениях, русские респонденты Шымкента показали, что 86 процентов из них хотели бы, чтобы их дети знали бы английский и другие европейские языки, 54 процента - русский и 53 процента - казахский языки. То есть, наглядно продемонстрировали отсутствие предубеждения в отношении казахского языка. Но, очевидно, этого мало для того, чтобы его изучить. Необходима не только воля для его изучения, но и соответствующая инфраструктура - учебники, методика, образовательные учреждения и так далее. Не вижу смысла включаться в многолетнюю дискуссию по поводу того, кто больше виноват в том, что русские в Казахстане недостаточно знают русский язык, – сами они или недостаточные условия, созданные государством. В любом случае ответ каждого на этот вопрос будет зависеть от его личного опыта и ощущений, а упрекнуть можно и нужно обе стороны. Хочу отметить, что, как показали итоги опроса, изменения информационной и языковой среды на юге Казахстана уже обусловили невозможность дальнейшего игнорирования местными жителями своей языковой некомпетентности в большинстве жизненных ситуаций, коль скоро это вызывает чувство дискомфорта. Обществу необходимо проанализировать доводы обеих сторон и сделать необходимые выводы. С одной стороны, справедливы аргументы тех, кто полагает, что государство выделяло на изучение казахского языка огромные средства и на протяжении 20 лет проявляло лояльность к гражданам, которые еще не овладели им. С другой стороны, нельзя не слышать тех, кто, указывая на способ решения тех же задач в прибалтийских государствах (в Латвии, например, занятия по изучению языка были бесплатными и проходили в рабочее время), приводит сравнения не в пользу Казахстана и напоминает, что, согласно конституции РК, этническая, религиозная принадлежность и степень владения тем или иным языком не может влиять на осуществление гражданином своих прав. Как бы то ни было, результаты опроса показывают, что пространство для игнорирования позиции и аргументов друг друга сокращается. Теперь об «ухудшении межэтнических отношений». Некоторые вопросы используемой анкеты позволяют прояснить ответы респондентов в этой сфере. Например, на вопрос «Приходилось ли Вам лично испытывать ущемление своих прав или возможностей из-за Вашей национальной принадлежности?» 14 процентов заявили, что часто приходилось, а 57 процентов, что иногда, и лишь 26 процентов ответили отрицательно. Отмечу, что на основании этих ответов мы можем судить лишь об ощущениях людей, не имея возможности узнать, что они имеют в виду в каждом случае. Но подобные ответы свидетельствуют о том, что таковые ощущения у них имеются. В ответ на уточняющий вопрос, где ущемление проявлялось конкретно, 34 процента ответили, что в госучреждениях, 26 процентов - в бытовой сфере, 23 процента - на работе и 14 процентов - в сфере образования. Несколько проясняет ситуацию тот факт, что 66 процентов положительно ответили на вопрос, влияет ли национальность человека на его возможности устроиться на лучшую работу. Только 23 процента отметили, что это «зависит от образования, обстоятельств, профессиональных и личных качеств». Значит, для большинства этничность является существенным социальным ресурсом. Даже если учитывать, что эти ответы отражают лишь субъективные ощущения респондентов, то в условиях, когда публичные дискуссии на подобные темы не только не распространены в СМИ, но, скорее, и не приветствуются, придется исключить влияние на формирование подобных мнений в информационной среде. А это значит, что существуют объективные обстоятельства, при которых у человека возникает уверенность в том, что его этничность является ресурсом в ходе самореализации. В данном случае негативным ресурсом, негласным (нам не известны инструкции работодателей, ограничивающие прием на работу по этническому признаку), но действенным. В таких условиях и не требуются какие-то одномоментные острые события для формирования чувства беспокойства и неуверенности. Достаточно личных наблюдений и обобщений по поводу ближайшего социального окружения. Ответы на некоторые вопросы подтверждают эти предположения. Так, наибольшее число респондентов (45 процентов от общего количества опрошенных) отметили, что «внешних признаков [напряженности] нет, но чувствую негативное отношение». 40 процентов респондентов сталкивались «с советом ехать к себе на историческую родину, если что-то не устраивает», 32 процента отмечают «ограничения в получении желаемой работы». Об «оскорблениях и угрозах» говорят лишь 18 процентов опрошенных, а 12 процентов отметили «открытое нежелание общаться». То есть, можно говорить об ощущаемом дискомфорте без значимых внешних поводов, так как с прямыми оскорблениями и угрозами сталкивался лишь каждый пятый. Как представляется, значительную роль в формировании такого самоощущения сыграла постоянно, но незаметно меняющаяся языковая и социально-культурная ситуация. Имеется в виду сокращение в пространстве публичной жизни символов и знаков из прежней советской эпохи с присущей ей независимостью социальных успехов от этничности и языковой компетенции. Раньше, в предшествующие 20 лет казахстанской постсоветской истории, достаточным было просто не форсировать насильственный слом этой среды, и она сохранялась благодаря невмешательству сверху и самому факту использования заметной частью населения русского языка. Теперь эта сфера сокращается вследствие демографической динамики, каждый год выводящей в активную жизнь все больше людей, для которых русский язык и советская жизнь мало что значат. С учетом изменившихся запросов новых категорий граждан меняется информационная и идеологическая политика: все больше отсылок не к общесоветскому, а к общетюркскому прошлому и к будущему, построенному без использования советского опыта. Это влияет на сокращение привычного для русских уклада публичной жизни. Судя по выступлениям главы государства, эти тенденции осознаются и для уравновешивания ситуации декларируется формирование трехязычной информационной среды. Но насколько реально создание такой среды на практике и насколько готовы разные категории населения вносить свой вклад в ее формирование, пока остается вопросом. При этом большинство опрошенных (39 процентов) считают своей родиной Казахстан, а если добавить к этому 6 процентов отметивших в качестве родины Шымкент, 19 процентов - «место, где родился» и 2 процента - «место, где живу», их доля еще возрастет. Лишь 11 процентов назвали родиной СССР, 13 процентов - Россию и 2 процента - СНГ. Это значит, что три четверти опрошенных твердо ассоциируют себя с Казахстаном и признают решающую роль страны в своей судьбе. Для большинства русских этничность так и не стала важной социальной категорией и не влияет на их мировосприятие. Так, 61 процент опрошенных отметил, что «для меня не имеет значения моя национальность и национальность окружающих меня людей», и лишь 39 процентов заявили: «Я никогда не забываю, что я представитель своего народа». В то же время они признают возросшую роль этнической принадлежности вообще: 49 процентов считают, что «современному человеку не обязательно чувствовать себя частью какой-то национальности», тогда как 51 процент уверен, что «человеку необходимо ощущать себя частью своей национальной группы». Эти мнения нашли свое подтверждение в реальном поведении людей. 30 процентов людей, состоящих в браке, отметили, что их супругом (-ой) является человек другой национальности, более заметными оказались украинцы, казахи, немцы, татары, чеченцы, поляки, таджики, евреи. На вопрос «Как бы Вы отнеслись к браку Вашей дочери (сына, брата, сестры) с человеком другой национальности?» 13 процентов ответили, что «безразлично», 27 процентов «одобрили бы», 28 процентов «не одобрили бы, но возражать не станут», 16 процентов «категорически не одобрили бы» и 16 процентов «затруднились ответить». К тому же, лишь 35 процентов полагают, что «межнациональные браки «размывают» народ», тогда как 48 процентов так не считают, а 17 процентов затруднились с ответом. На вопрос «Готовы ли Вы принять в качестве близкого родственника казаха?» 55 процентов респондентов ответили положительно и 18 процентов - отрицательно, что в целом согласуется с предыдущими ответами. 59 процентов готовы были принять в качестве близкого родственника татарина и 50 процентов - кавказца. Отсутствие страхов по поводу «размывания народа» сказалось, видимо, и в том, что кулинарные предпочтения русских «размылись» примерно на три части: доминируют русские блюда (борщ, пельмени, блины), не намного отстают по популярности казахские (бешбармак, шурпа, каурдак, казы, баурсаки) и узбекские (плов, манты, шашлык, лагман). Упоминалось и кукси. Такое же «смешение» наблюдается и в других сферах. Большинство опрошенных с удовлетворением отмечали, что совместное проживание с другими народами повлияло на них, и что они приобрели новые качества. Среди самых ценных благоприобретений отмечались гостеприимство, благожелательность, терпение, интерес к родословной, обычаям и традициям, менталитет, манеры. Среди новых качеств, отношение к которым не столь однозначно положительно, – акцент, наглость. Ориентация на тесные отношения с другими народами проявилась и в ответах, характеризующих готовность к повседневным контактам. Так, на вопрос «Готовы ли Вы принять казаха в качестве Вашего соседа?» 88 процентов ответили положительно, 2 процента - отрицательно и 10 процентов затруднились. Ответы на тот же вопрос по отношению к «татарину» распределились следующим образом: 79, 5 и 16 процентов соответственно, а по отношению к «кавказцу»: 72, 3 и 15 процентов. В качестве непосредственного начальника условного «казаха» готовы принять 75 процентов, условного «кавказца» - 62 процента, условного «татарина» - 72 процента респондентов. В качестве близкого друга – 87, 73 и 82 процента соответственно. Видно, что русские сохраняют в целом высокую комплиментарность в разных ситуациях по отношению к разным народам, но во всех сферах наиболее высокую степень доверия оказывают казахам. При этом русские Казахстана вполне сохранили ощущение ценности собственных, как они их понимают, традиций и обычаев. Так, на вопрос «Соблюдаются ли в Вашей семье национальные обычаи, обряды и традиции при рождении ребенка?» «Да, полностью» ответили 56 процентов опрошенных, «Да, частично» - 36 процентов, тогда как «нет» сказали лишь 12 процентов респондентов. На тот же вопрос относительно свадебных обычаев отрицательный ответ дали только 7 процентов, а «полностью» и «частично» - 55 и 46 процентов соответственно. В отношении похоронных обычаев доля единодушия еще выше. Конечно, мы не сможем узнать, насколько эти ответы рождены наблюдением за реальной практикой этих ритуалов, а насколько – являются следствием представлений о том, как это было бы хорошо, то есть, отражают «желаемую» реальность. Но сам факт того, что именно такое значение придается народным обрядам, говорит о том, что они сохраняют свою ценность. Как и следовало ожидать, в набор обычно называемых респондентами русских народных праздников и элементов культуры входят и те, что порождены советским временем, но их оказалось не так много. К примеру, среди наиболее популярных праздников доминируют религиозные и досоветские по своему происхождению (Пасха, Рождество, Новый год и Масленица), тогда как пункт «Праздники СССР» в качестве любимых указали всего 13 человек. Семеро отметили Наурыз и один человек - Хеллоуин. Более 90 процентов опрошенных сообщили, что отмечают народные праздники, из них 51 процент - постоянно. 79 процентов респондентов заявили, что знают свои народные песни, и уверенно назвали ставшие известными в досоветскую эпоху «Мороз», «Калинку», «Черного ворона», «Во поле береза стояла», «Степь да степь кругом», «Маленькой елочке холодно», «Шумел камыш» и так далее. Некоторое место среди «народных» песен занимают песни, созданные в советское время, но их указывают гораздо реже, - это «Смуглянка», «Вот кто-то с горочки спустился», «Огней так много золотых», «Я люблю тебя, жизнь», «Катюша», «Ой, цветет калина в поле у ручья». В то же время многие участники опроса твердо знали названия самых разных народных обычаев и ритуалов - от венчания и крестин до похорон и проводов зимы. Ритуалы, сложившиеся в советское время, например встреча «Старого Нового года», назывались считанное количество раз. Это позволяет заключить, что через 25 лет после крушения Советского Союза идеологическое и культурное наследие той эпохи сохраняется, но в гораздо меньших объемах и трансформированной форме. Интересно оценить значение религии в жизни современных русских Шымкента. 78 процентов опрошенных сказали, что считают себя верующими людьми, 5 процентов твердо отрицали это, 13 процентов колебались, 4 процента затруднились ответить. 83 процента посещают церковь, но лишь 16 процентов респондентов делают это регулярно (от ежедневных, до ежемесячных посещений), 26 процентов заходят в церковь по праздникам, 48 процентов - от случая к случаю, а 11 процентов затруднились ответить. То есть, степень религиозности невысока. Отвечая на вопрос «Кого из известных русских Казахстана Вы знаете?», чаще всего респонденты называли уроженца юга страны Сергея Терещенко, занимавшего пост премьер-министра Казахстана в 1992 году, чуть реже - Григория Марченко, о котором пресса часто писала в бытность его председателем Национального банка республики. Одного-двух упоминаний удостоились еще несколько имен. Среди современных политиков были названы бывший мэр Алматы Виктор Храпунов, министр энергетики Владимир Школьник, лидер движения пенсионеров Ирина Савостина и почему-то Борис Березовский. Среди администраторов и военных прежних лет указывались генерал И.Панфилов, сменивший Д.Кунаева на посту руководителя Компартии Казахстана в 1986 году Г.Колбин, царские генералы Л.Корнилов, М.Черняев, Г.Колпаковский, которые были связаны по роду службы с Казахстаном, летчики И.Кожедуб и Е.Евсеев, летчики-космонавты К.Феоктистов и В.Пацаев. Не по всем из них у автора есть информация касательно их связи с Казахстаном, но раз их имена хранятся в памяти современных русских жителей Шымкента, предположу, что связь есть. Довольно обширен список деятелей культуры Казахстана, имена которых значимы для современных шымкентцев. Прежде всего, нужно отметить Чингиза Айтматова и Чокана Валиханова, которые в разряд «русских» попали, очевидно, благодаря своему творчеству на русском языке. Также были названы писатель И.Шухов, композитор, основоположник казахской оперы Е.Брусиловский и Алма-Атинский митрополит Николай (Могилевский). Среди заметных фигур в культуре современного периода – писатель С.Лукьяненко, музыканты Б.Алибасов и Ю.Лоза, стилист С.Зверев. Упомянуты и спортсмены - О.Шишигина и И.Ильин, которые в разные годы принесли Казахстану спортивную славу. В ряду известных людей, связанных непосредственно с Шымкентом, были названы руководивший областью в 1960-е годы В.Ливенцов, художник Ф.Потехин, археолог и педагог Н.Подушкин, специалист по ономастике В.Попова, врач С.Кривцов, главный режиссер областного русского драматического театра И.Вербицкий. Можно сделать вывод, что жители города вполне осведомлены о заметных персонах из числа русских, которые внесли вклад в развитие Казахстана или были связаны с ним на протяжении последних двухсот лет. Конечно, список мог быть более обширен, но наши респонденты не были готовы к такому вопросу и называли те имена, которые были, что называется, на слуху. Гораздо более важен тот факт, что названные имена представляют разные сферы общественной жизни, а это значит, что не существует явных тенденций насильственного сокращения коллективной памяти. В целом можно сказать, что материалы опроса выявили отсутствие свидетельств неблагоприятной для русских Шымкента ситуации в коммуникативной и культурно-символической сферах: взаимодействие как на уровне конкретных людей и сообществ, так и на уровне взаимопроникновения элементов материальной и духовной культуры не встречает препятствий, нет ни стремления к обособлению и избеганию контактов, ни признаков сокращения интереса к «своей» культуре или отторжения «другой». Сохраняются институты, поддерживающие специфические культурные запросы части (в данном случае русской) населения. В то же время в социальной сфере присутствуют неудовлетворенность и неуверенность в перспективах своей жизни в Казахстане, связанные с зависимостью своего статуса от этнической принадлежности и языковой квалификации. При этом нет свидетельств усиливающейся миграции и открытых очагов межгрупповой напряженности. На мой взгляд, такая ситуация свидетельствует о некотором дисбалансе в урегулировании сферы межэтнических отношений. 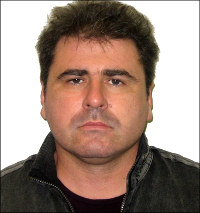 Игорь Савин - учет этих различий в локальных сферах, где это необходимо для удовлетворения специфических культурных запросов отдельных групп и категорий населения (языковая, образовательная, культурная политика); - нивелирование таких различий в общеполитическом и общесоциальном пространстве государства: предупреждение их влияния на правовой и социальный статус граждан, недопущение формирования этнической мобилизации. Как представляется, мероприятия общественных и государственных институтов Казахстана все еще, по традиции, тяготеют к решению первой задачи, в чем и преуспели. Тогда как включение этнических различий в ткань повседневных взаимодействий людей и сообществ и их влияние на локальные стратегии группового и индивидуального поведения все еще остаются вне фокуса специальных мероприятий. Игорь Савин, НЦ «История и этнология» ЮКГУ имени М.Ауэзова, Институт Востоковедения РАН 11-летней Покизе Рахимбердиевой из Узбекистана нужна операция, иначе паралич 2015-03-13 10:38 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Покиза Рахимбердиева Родилась Покиза здоровой, пошла в девять месяцев. В два года внезапно начались судороги, и родители повезли ребенка в районную больницу Чоршанбэ. Врач посмотрел и ничего не понял, судороги так судороги, бывает. Никакой помощи. Никакого обследования. Девочка росла, проблемы с ногами и спиной усиливались. Когда ей исполнилось девять, родители повезли ее в столицу. В Ташкенте врачи уложили ее в специальные «сапоги» - «держатели ног», говорят родители. Потом в Самарканде сделали операцию - «надрезы на бедрах», по словам родителей. Ребенку становилось хуже, родители кинулись за помощью в нетрадиционную медицину… Диагноз «врожденное искривление позвоночника» нигде не ставили. Лечили иглоукалыванием. До 10 лет Покиза еще могла ходить в школу. Училась на пятерки, она умница. Но сейчас ей уже тяжело, посмотрите, с каким трудом она переставляет ноги. Улыбается, правда, во весь рот. Самой смешно, как она переваливается. «Она аккуратная, в доме порядок наводит, вяжет, рисует», - это мы попросили сказать о девочке хорошие слова. Родители у Покизы - дворники в Москве. Зарплата совсем небольшая. Кроме того, в семье еще двое старших детей, они сейчас с бабушкой. Врач из московской больницы ФГБУ «ЦИТО им.Н.Н. Приорова» позвонил в Благотворительный Фонд «Гольфстрим» и попросил собрать деньги для Покизы: «Ей срочно нужна операция, или она скоро не сможет ходить». Полный диагноз: врожденная кифотическая деформация позвоночника, грудная миелопатия, нижний парапарез. Все документы есть в БФ «Гольфстрим» и в редакции «Ферганы». Покизе нужна операция на позвоночнике и установка импланта. Операция стоит 287.592 руб., имплант - 317.000 руб. Итого 604.592 рубля. Для ее родителей это запредельная сумма. Девочке уже сейчас тяжело ходить, но скоро она вообще не сможет подняться с кровати. Если мы денег не соберем. Помочь можно: - отправьте SMS-сообщение на номер 3443 со словом ГОЛЬФСТРИМ 100 (где 100-любая сумма, какую захотите пожертвовать); - on-line по банковской карте с сайта фонда; - Перечислив помощь на расчетный счет в рублях БФ «Гольфстрим»: ИНН 5017998033 КПП 501701001 АКБ "Российский капитал" (ОАО) Расчетный счет в рублях: 40703810300390000011 Корр. счет 30101810100000000266 БИК 044583266 Получатель: БФ «Гольфстрим» Назначение: Покизе. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается. - PayPal - Golfstreamfond@yandex.ru - Яндекс кошелек - 41001967430981 - КИВИ (QIWI) - 968 793 45 88 - RBK - RU455393563 - WebMoney: R254643446884 - рубли Z235187948249 - доллары Контакты: Благотворительный фонд «Гольфстрим»: +7-903-267-94-11, +7 (495)-995-56-16; Дядя Покизы Вахаб: тел. +7-909-949-04-12, хорошо говорит по-русски. Отец Покизы Хасан: тел. +7-965-410-02-90. Норвежский Хельсинкский Комитет рассказал о том, как в Казахстане соблюдается право на публичный протест 2015-03-13 12:10 ferghana@ferghana.ru (Фергана) 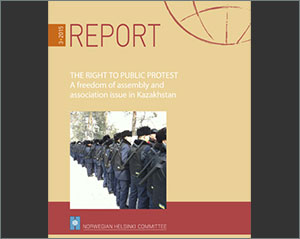 В 18-страничном докладе «The right to public protest» этой международной правозащитной оранизации дается обзор проблемы на примере последних нескольких лет, в течение которых, в частности, произошли трагические события в городе Жанаозен, когда полицейские застрелили, по меньшей мере, двенадцать участников акции протеста нефтяников, требовавших повышения заработной платы. Как напомнил старший советник НХК Ивар Дале, Казахстан недавно посетил специальный докладчик ООН по свободе мирных собраний и праве на ассоциации, чьи рекомендации правительству ожидаются позже, в этом году. «Это прекрасный повод для казахстанских властей рассмотреть собственную политику и привести практику в соответствие с международными обязательствами Казахстана в области прав человека, - считает Дале. - Сегодня в Казахстане де-факто действует запрет на протесты, что не согласуется с образом, который правительство стремится сформировать о стране за рубежом - как перспективную, современную, следующую демократическим принципам республику. Позитивные изменения в этой области принесут Казахстану колоссальную пользу». НХК выражает благодарность за помощь в подготовке доклада Казахстанскому международному бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ), которое предоставило доступ к своему большому архиву собранных за много лет мониторинговых отчетов о протестных акциях. Полный текст доклада на английском языке доступен здесь. Таджикистан: В военных учениях на границе с Афганистаном участвуют 50 тысяч человек 2015-03-13 12:57 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Фото «Озоди» Как передает Озоди (таджикская служба Радио Свобода), руководитель пресс-службы Минобороны Таджикистана Фаридун Махмадалиев сообщил, что цель учений - установить уровень боеготовности силовых структур в отражении атаки боевиков. «При возможных атаках в их отражении будут задействованы также резервисты. Именно население приграничных территорий должно быть готово к этим действиям, и учения выявят уровень их боеготовности», - пояснил Махмадалиев. По данным «Азии-плюс», в учениях, которые завершатся 14 марта, задействовано свыше 100 единиц бронетехники, авиация, мобилизованы автомобильная техника многих государственных учреждений Хатлонской области. «Азия-плюс» со ссылкой на Махмадалиева уточняет, что в учениях задействованы свыше 30 тысяч солдат и офицеров национальной армии, резервисты из всех городов и районов юга Таджикистана. Между тем, в 2013 году информагентство сообщало, что «численность таджикской армии оценивается примерно в 20 тысяч человек». Решение провести военные учения было принято на фоне поступающих сообщений об угрозе безопасности Центральной Азии со стороны действующих в Афганистане боевиков – как талибов, так и членов группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб.), которые, как отметил 5 марта заместитель министра обороны России Анатолий Антонов «начинают жать на южные границы наших союзников, в первую очередь, по ОДКБ», имея в виду, прежде всего, Таджикистан. Узбекистан: Торговый комплекс «Абу-Сахий» - зона, свободная от налогов? 2015-03-13 15:31 ferghana@ferghana.ru (Соб.инф.) В торговом комплексе «Абу-Сахий» (неподалеку от оптового рынка «Чилонзор савдо комплекси» - бывший «Ипподром») созданы идеальные условия для работы без разрешительных документов на право розничной и оптовой торговли. Поэтому и торгует здесь, в основном, безработная молодежь из регионов, которая проживает без прописки в заброшенных складах и времянках тут же, неподалеку. Здесь создана нелегальная «свободная экономическая зона» для «избранных», где не платятся налоги, при расчетах с покупателями не используют контрольно-кассовые машины (ККМ), а за крупные покупки рассчитываются наличной «зеленью». Безо всяких там чеков-квитанций и не опасаясь наказания за противозаконные валютные операции. В этом «царстве контрафакта» напрочь отсутствует контроль, там нет привычных для других торговцев «контрольных закупок», которые проводятся налоговиками. Хотя на территории торгового комплекса существует отделение налоговой инспекции - очевидно, полностью «своей». Чек? У нас так не принято Любой «неудобный» вопрос, любое недовольство клиентов качеством товара или обслуживания вызывает шквал агрессии. Здесь не церемонятся с теми, кто предъявляет претензии: никто не извиняется, чуть что не так - указывают на дверь. «В прошлом году в одном из магазинов «Абу-Сахий» я приобрела сыну китайские кроссовки, но лишь дома заметила, что они бракованные, - рассказывает Халима-ая, жительница из Уртачирчикского района Ташкентской области. – Когда покупала обувь, мне даже в голову не пришло потребовать чек, у них это не заведено. На следующий день прихожу, пытаюсь высказать претензии, - так на меня сразу набросились: вчерашнего продавца нет, откуда, мол, им знать, где я на самом деле приобрела эти кроссовки. Столько сил и нервов потратила, столько о себе гадостей выслушала, пока уговорила их хотя бы поменять бракованную обувь на более приличную. А деньги категорически отказались вернуть». Покупатели знают, что самый больной вопрос в «Абу-Сахий» - требование пробить чек. На возмущенные реплики покупателей и угрозы «пойти пожаловаться» продавцы, в лучшем случае, не реагируют, а в худшем - начинают раздраженно орать. Они точно знают, что жаловаться на них некуда. Двойные стандарты налоговиков «Буквально перед женским праздником, пятого марта, я специально приехала в торговый павильон №56 на «Абу-Сахий», чтобы купить краску для картриджа, - рассказывает свою историю ташкентская предпринимательница Елена Агибалова, лишившаяся работы и товара по вине коррумпированных чиновников и налоговиков. - Решила взять краску по 22.000 сумов, но помня о прошлых инцидентах с контрафактной продукцией, попросила торговца отбить кассовый чек, вдруг придется возвращать некачественную вещь. Так, к примеру, уже было летом прошлого года, когда мне с трудом удалось вернуть (подключив местных налоговиков) абсолютно не годный для работы комплект картриджей, за который заплатила 120.000 сумов». Но сотрудник магазина заученно сообщил Елене о том, что в магазине кассового аппарата нет, сломался, и вообще на «Абу-Сахий» она нигде кассу не найдет. И в довольно грубой форме наотрез отказался продать ей товар, ехидно сообщив, что у него «краска старая и некачественная». «Мне пришлось снова обратиться в налоговую инспекцию торгового комплекса, пожаловаться на необоснованный отказ продать мне товар и потребовать объяснений по поводу распущенного поведения продавцов, нагло отказывающихся от выдачи кассового чека, однако все бесполезно, - говорит Агибалова. - Позвонила также на телефон доверия Государственного Налогового комитета, даже в налоговое спецуправление, но в итоге выяснилось, что никто из них не в состоянии решить проблему реализации товара на основе кассового чека в «Абу-Сахий». А попробуй любой другой предприниматель хоть раз не пробить чек - его те же налоговики с потрохами съедят!» Инспектор ГНИ (отделения налоговой инспекции) «Абу-Сахий» А.Тураев удивил Агибалову заявлением о том, что он, оказывается, «не вправе вмешиваться в деятельность магазина №56». «Мы не канцелярия, чтобы принимать заявления от недовольных покупателей, если вам продавец отказывается продать товар - это его право», - резюмировал он спокойно. Ссылаясь на отсутствие на сей счет приказа начальника Управления по контролю над деятельностью рынков и торговых комплексов города Ташкента Р.Раимова, ответственные за торговый порядок сотрудники ГНИ отказались даже потребовать объяснительную от продавца, не посчитали нужным проверить его документы на право торговли, составить акт об отсутствии в торговом помещении контрольно-кассового аппарата. «Ввиду конфликтной ситуации мне пришлось обратиться за помощью к сотрудникам службы безопасности торгового комплекса «Абу-Сахий», чтобы заставить отпустить мне эту краску, - продолжает Елена Агибалова. - Я настояла, чтобы мне выдали бумагу, подтверждающую покупку. И мне дали.. от руки заполненную накладную, которая якобы заменяла «законный чек», причем на этом рукописном «чеке» стояла печать магазина электроники «Самсунг». Теория и практика «защиты» Беседуя с предпринимателями, занятыми в торговле и не имеющими «крыши», часто приходится выслушивать десятки душераздирающих историй о «наездах» на их бизнес со стороны налоговых органов. Поэтому так цинично звучат заявления государственных органов о якобы проводимой «в рамках Конституции» деятельности, направленной на защиту ущемленных прав граждан, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса. К примеру, узбекский новостной ресурс Kun.uz, со ссылкой на статданные Единого портала государственных услуг my.gov.uz, сообщает, что, начиная с июля месяца 2013 года по настоящее время, интерактивной госслужбой было рассмотрено (разумеется, положительно!) свыше 150.000 электронных жалоб и заявлений, а также более 10.000 «живых» обращений по телефону доверия. Однако при личных встречах с участниками сетевой переписки с властью, не раз и не два обращавшимися на госпортал по поводу чиновничьего произвола, выясняется, что вместо реальной помощи они годами получают банальные бюрократические отписки. Это могут подтвердить и такие уже известные предприниматели, как Елена Агибалова, Динара Латыпова, Ахмед Мадюнусов, о мытарствах которых писала «Фергана», и многие-многие другие, на себе познавшие бесполезность хождений по высоким инстанциям. Примечательно, что в докладе кандидата в президенты от Либерально-демократической партии Узбекистана Ислама Каримова (действующего президента Узбекистана, правящего республикой уже 25 лет - ред.) особо подчеркивается, что одним из основных направлений его предвыборной платформы «является борьба с ущемлением прав и интересов предпринимателей со стороны чиновников». Не иначе как лукавит Ислам Абдуганиевич, если наивно полагает, что «здесь первостепенное значение имеет повышение роли судебных органов в защите законных прав и интересов частных собственников, усиление ответственности должностных лиц государственных, правоохранительных и контролирующих органов за незаконное вмешательство в хозяйственную и финансовую деятельность субъектов предпринимательства». А что мешало гаранту Конституции наводить порядок в этой сфере за четверть века своего правления, если все эти годы он упорно «не замечал» (или не хотел замечать) судебно-правового и чиновничьего беспредела под своим носом? Или как в истории с неподключенным интернетом у президента - «некому» было указать на конкретные факты беззакония?.. Своим – все, чужим – закон?.. По утверждениям независимых СМИ, частная торговая империя «Абу-Сахий», приносящая многомиллиардные доходы, принадлежит бизнесмену Тимуру Тилляеву, мужу младшей дочери узбекского президента Лолы Каримовой-Тилляевой. Данный объект торговли, как и многомощные торговые площадки «Бек-Барака», «Посудный базар», «Солнечный» и ряд прочих, которыми владеют «избранные» представители узбекской элиты, географически относится к Зангиатинскому району Ташобласти. Это означает, что, ведя колоссальную оптовую торговлю (имея патенты на розничную продажу), сотрудники перечисленных комплексов включены в реестр плательщиков фиксированного налога в размере… трех минимальных окладов, в то время как столичным предпринимателям вменяются налоговые выплаты в объеме десяти «минималок» в месяц. «Если в этих комплексах даже не имеют понятия о цивилизованной торговле, если там элементарно отсутствуют кассовые машины (что автоматически исключает использование фискальными органами «контрольных закупок»), дорогостоящие товары отпускаются за наличные доллары, - значит, это кому-то нужно, - говорят предприниматели корреспонденту «Ферганы». – Об этом прекрасно осведомлены и налоговики, и другие контролеры. Но их основная задача - не наведение налогового порядка в этой искусственно созданной «свободной экономической зоне», а охрана интересов владельцев. И про закон они вспоминают лишь, когда нужно «топить» конкурентов или неугодных и принципиальных». Соб.инф. |
| В избранное | ||

